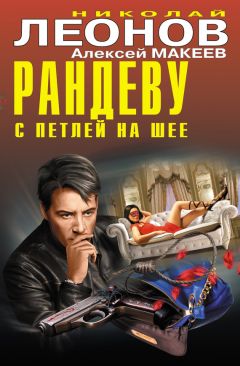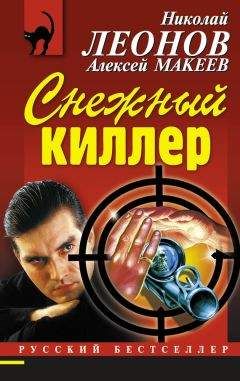кабинета паспортистки. – Пойдемте, я вам кабинет следователя открою. Вы же из Москвы, да? С Деревяшкой, то есть с задержанной Пироговой, побеседовать приехали? Отпустить бы ее уже! Да Дмитрий Василич не велят-с, – ерничал дежурный. – Говорит, московскому сыщику показания бабки могут потребоваться.
– А что она, бушует? – заинтересовался Гуров.
– Еще как! – Парнишка передернул плечами. – У нас в «обезьяннике» еще трое сидят – так она всю ночь их строит матом, жить учит и что такое «шконка» рассказывает. Спать никому не дает!
– Ну, ведите в кабинет, коль так, – хмыкнул сыщик. – Может, и со мной побеседовать не откажется.
Лев Иванович прошел вслед за дежурным в скромное помещение с двумя столами. Через пару минут в кабинет привели Пирогову.
– Здравствуйте, Мария Андреевна, – вежливо начал беседу оперативник.
– И вам не хворать, – хрипло ответила старуха. По ней не было заметно последствий бессонной ночи на твердой лавке в «обезьяннике». Как она и обещала, сутки в неволе ее не сломили и не склонили к откровенной беседе с сотрудником полиции.
Но Лев не сдавался, он попросил у дежурного чашку крепкого чая, достал из кармана небольшую шоколадку, выложил сигарету и зажигалку на стол. Все это богатство он подвинул старухе, но та даже не шевельнулась в ответ.
– Угощайтесь. Мария Андреевна, я понимаю, что вы сына своего спасаете. Да я и не прошу говорить, где он скрывается. Вы и не знаете скорее всего. – Лев помолчал несколько секунд, оценивая реакцию собеседницы. Старуха по-прежнему сидела застывшим каменным изваянием. – Вы мне расскажите лучше про него, как он трагедию вашей семьи пережил, как оказалось, что из всех документов вы как мать исчезли. Он ведь вас любит и звонит. Ждал вас все эти годы.
Пирогова вдруг протянула руку к чашке, стало заметно, что руки, до этого скрытые в карманах, ходят ходуном:
– Сахар нужен.
Она жадно глотнула жидкость, откусила кусочек шоколадки прямо через обертку, и, закрыв глаза, начала с тяжелым придыханием рассасывать угощение.
– Диабет? – сообразил в ту же минуту сыщик.
Женщина только медленно моргнула в ответ, а Гуров выглянул в дверь и окликнул дежурного:
– Больница далеко у вас тут?
– У нас фельдшер через два дома живет.
– Звони, а лучше скажи адрес, привезу сейчас. Плохо Пироговой, сахар упал, а у нее диабет.
Дежурный вытащил в ответ белые таблетки из кармана:
– Глюкоза, пускай рассасывает пока. У сына такая же проблема, я всегда с собой таскаю. Пускай рассосет парочку, я сейчас организую фельдшерицу. – Полицейский опасливо взглянул на дверь кабинета: наедине с полуобморочной старухой ему оставаться совсем не хотелось.
Лев махнул ему в проеме двери – действуй, а сам уже выламывал из обертки пару белых кружков для тяжело дышащей женщины.
Через несколько минут в кабинете началась суета: фельдшер измеряла давление и уровень сахара, дежурный бегал с чашками, наливая еще чай, парочка с паспортом с любопытством заглядывала через щель в кабинет, источая запах перегара.
От «Скорой» и больницы старуха отказалась, ей стало лучше после таблеток. Она основательно уселась на стуле и буркнула:
– Ну все, отлегло. Давайте освобождайте помещение, а то набежали, как куры на зерно.
Когда в маленьком кабинете воцарилась тишина, Пирогова вздохнула, наклонила голову и, не поднимая глаз, начала говорить:
– Муж всю жизнь пил и бил, это деревня, здесь все так живут. Ради детей терпела все, крутилась как могла. Школа, ферма, огород, корова, куры. Иногда закрадывалась мыслишка, что, может, бросить все и уехать с детьми, да страшно, кому я нужна. Ни образования, ни профессии, только и умею, что коров доить да за поросятами убирать. Некогда было профессии получать, я детей поднимала как могла, с пяти утра всех накормлю и на работу бегом, вечером в огороде возилась. Пыталась накопить на переезд, но куда там, каждая копейка на счету. Муж со свекровью все из дома выносили, все пропивали, что могли найти. Гриша мне всегда помогал, как только на ножках научился стоять. Сам еле ходит, а тащит огромную лейку, чтобы огурцы поливать. Гешка не такой был, серьезный. Он в школу как уйдет утром, так до вечера там сидит или в библиотеке, да и что ему дома делать – на пьяного отца и бабку любоваться?
– Геша, это ваш старший сын?
– Да. – Женщина еле заметно кивнула. – Гешей его Гриша маленький называл, не мог выговорить все буквы, а он же Гришке заместо отца и матери был. Кормил, пеленал, играл, в сад в соседнюю деревню таскал при любой погоде. Я на работе постоянно, отец с бабкой не просыхают, так что они у меня с младенчества самостоятельные. Я однажды с работы прибежала пораньше, хотела для Гешки пирог на день рождения испечь. А дома тишина, только возле печки Гриша скулит жалобно, как щенок…
Старуха ссутулилась, лицо потемнело от воспоминаний.
– Заглянула в дом, а папашка пьяный вусмерть валяется, бабка рядом; лежат на летней кухне в темноте, любили они там в холодке беленькую весь день пить. Закуску в кастрюле поставят на печке, чтобы не остывала, пьют, песни орут, дерутся, горланят, дымят… Гриша ко мне бросился, кричит, плачет, тянет к бане. А там в бане, в крови весь, Геша, Гриша его тряпками обложил, чтобы кровь остановить. Я сына в одеяло завернула и бегом через лес на железку, в товарняк запрыгнула и через пятнадцать минут была на станции. Туда же «Скорую» вызвали, увезли нас в больницу, там врачи меня выгнали из палаты. А Геша всю дорогу до станции в сознании был, я его успокаивала, разговаривала с ним. А он смотрит на меня, лицо белое-белое, но молчит, ни звука не издал. В глазах ни слезинки. С тех пор я Гешу больше не видела никогда, а лицо его до сих пор каждую ночь снится. Как смотрит он, глаза сухие, губы сжаты в одну полоску. Как я домой пешком пятьдесят километров отмахала и не помню, домой зашла, ко мне опять Гриша бросился. Рассказал, что это отец так с бабкой Гешку избили за то, что он споткнулся и бутылку с самогонкой разбил случайно. Я Гришу к соседке отвела, в сенки пихнула и велела сидеть там тихо, пока все не проснутся. Полено взяла и пошла на летнюю кухню, решила: будь что будет, а терпеть больше такого нельзя. Только светать уже начало, я зашла и обомлела. Все в кровавых брызгах. Пока эти пьянчуги спали, им кто-то головешки разнес. А кто мог? Гришка не мог, он плакал, когда я куриц резала, отказывался мясо есть. А вот у Гешки рука бы
![Смерть по расчету [Сборник] - Алексей Макеев](https://cdn.my-library.info/books/385563/385563.jpg)